 |
 |
|
N°66, 13 апреля 2001 |
 |
ИД "Время" |
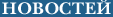 |
 |
 |
 |
«Этим и интересен»
Новая книга о поэзии Бродского
Об Иосифе Бродском написано много. Кажется, мемуаристам-эссеистам передалась безудержная «бродская» страсть к речеговорению. В разливанном море мифотворчества теряются работы о главном деле Бродского. Между тем наш «культовый персонаж» был не только «тунеядцем», изгнанником, «частным человеком», нобелевским лауреатом и «последним поэтом». Он еще и стихи писал.
Конечно, «научная бродскиана» тоже потянет на солидный шкаф. Только рыться в нем неохота: ворох мелочных «наблюдений», «взаимонаездов», трюизмов, шатких гипотез, часто свидетельствующих об авторской неосведомленности в «предмете» -- истории словесности. Меж тем Бродский -- поэт отчетливо «контекстный», пребывающий в круговороте словесности и адресующийся прежде всего к тем, для кого непреложно вневременное единство поэзии. Прежде всего русской.
Этому сюжету и посвящена книга Андрея Ранчина «Иосиф Бродский и русская поэзия XVIII--XX веков» (М., «МАКС Пресс»), работа академичная по форме (пожалуй, без некоторых сносок можно было бы обойтись), но полная живого интереса к изгибам многолетнего и единого монолога Бродского. Исследователь удачно выявляет главное «конструктивное противоречие» поэта: сосредоточенный на своих -- интимных и никогда не отпускающих -- темах, замкнутый в четко очерченном круге лейтмотивов и риторических приемов, Бродский постоянно «окликает» предшественников. Дабы оспорить. Или найти поддержку. Без того не может.
Не так уж важно, что с Державиным Бродский преимущественно конфликтует, с Ходасевичем -- солидаризируется, а строки Пушкина оборачивает то так, то эдак. Существеннее обнаружение цитатных приоритетов, контуров того поэтического пространства, что обжито автором «Урании»: Кантемир, Державин, Пушкин (куда ж без него?), Ходасевич, Хлебников, Маяковский. Вектора ясны: осьмнадцативечная -- зримо «плотская» при всей рациональности -- риторика и неистовый (но опять-таки заряженный «духом разума») авангард. Имя Ходасевича -- едва ли не самого классичного и самого «личностного» поэта ХХ века -- разъясняет парадокс. Рядом должны стоять имена Баратынского (и оно появляется -- известно, как высоко ценил автора «Сумерек» Бродский) и Вяземского. Вероятно, картина гляделась бы объемнее, обратись автор к стихам Случевского, быть может, Вячеслава Иванова и, конечно, Цветаевой. Что же до «отзвуков Мандельштама», то они для русского поэта ХХ века столь же обязательны, как реминисценции «Медного всадника». Здесь речь идет не о личном выборе, но о том диктате языка, славить (и внутренне проклинать) который так любил Бродский.
Ранчин дерзнул на ответственный разговор о серьезных материях. «Величие замысла» в литературоведении встречается так же редко, как в поэзии. Слишком хорошо усвоен тезис об одном шаге меж великим и смешным. Перебор сплетен и обсасывание формулы «последний поэт» безопаснее и предпочтительнее, чем рывок в стиховой космос. Общий и подразумевающий резкую индивидуальность. Ту, о которой толковали собеседники Бродского. Тесен вам, стихи мои, ящик... (Кантемир). А я пиит -- и не умру (Державин). Неужели вон тот, это я? (Ходасевич). Я поэт, этим и интересен (Маяковский). Ну и так далее... (Хлебников).
Андрей НЕМЗЕР

