 |
 |
|
N°10, 22 января 2003 |
 |
ИД "Время" |
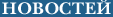 |
 |
 |
 |
Веселый вечер
Святочные представления «Школы драматического искусства»
К театру Анатолия Васильева еще в самом начале 90-х годов прилепилось слово «скит», неизвестно кем пущенное в обиход. С тех пор его не перестают повторять -- то почти серьезно, то с издевкой. Поначалу «Школу драматического искусства» величали так из-за ее замкнутости, обособленности театрального существования. Слухи о строжайшей дисциплине и беспрекословном послушании учеников, об эзотерических методиках актерского тренинга и т.д. оплетали «Школу...» со всех сторон, мифологизируя ее образ. Пищу для пересудов давали вдобавок нрав и даже внешность самого Васильева: длинные волосы, иногда заплетаемые в косицу, неухоженная борода, опояска («Классические «знаки» художника и тут же иное -- знахарь, колдун, старец», -- писал о нем Анатолий Смелянский). Во второй половине 90-х, когда вышел «Плач Иеремии» (1996) и вслух была названа главная цель «Школы...» -- создание мистериального театра, слово «скит» утеряло юмористическую окрашенность. Даже те, кто доныне считает театральные идеи Васильева химерами, не могут отрицать сугубой серьезности его намерений и усилий.
Насмешников сменили добровольные плакальщики. Они с печалью (иногда искренней) говорят о замечательном режиссере, погубившем свой талант, о тупике, в который завели «Школу...» искания Васильева, о его истовой религиозности, которую одни считают симптомом творческого упадка, другие -- частью имиджа, а третьи -- натуральным мракобесием. Васильеву ставится в укор даже то, что во всех прочих случаях приветствуется, -- к примеру, желание построить при театре храм во имя Сретенья Господня: ну зачем это, ну не чересчур ли -- храм при театре...
Слово «скит» в этих обстоятельствах произносится с осуждением: дескать, театр Васильева, будь он хоть трижды мистериальный, слишком много о себе возомнил. Его сцену перестал осенять дух радостной игры. И поделом: нельзя же все время «священнодействовать», храня суровую серьезность, нельзя же так перенапрягаться.
Это верно: нельзя, не следует, не подобает. Так никто же и не пытается!
Я не буду лишний раз доказывать, что вся жизнь «Школы драматического искусства» исполнена приветливого, спокойного веселья (отнюдь не отменяющего благоговейной серьезности). Оно разлито в воздухе, оно «начинается с вешалки»: чтобы не почувствовать его, нужно иметь либо слишком много предубеждений, либо очень уж неотзывчивую душу. Об этом писалось часто, предмет же нашего разговора не «вся жизнь» васильевского театра, а особая ее трансформация: святочное представление. Здесь уже ни о какой серьезности не может идти и речи. Здесь царит праздничный смех и создается особый мир -- «мир нарушенных отношений, логически не оправданных соотношений, мир нелепостей, мир свободы от условностей, а потому в какой-то мере желанный и беспечный», как сказано в известной книге Д.С. Лихачева, А.М. Панченко, Н.В. Понырко «Смех в Древней Руси» (стр. 3). Вопрос в том, зачем это нужно «театру-скиту».
К празднику Богоявления в «Школе драматического искусства», в студии на Поварской дважды был показан спектакль «Из путешествия Онегина. Святки». Программка называет его «открытой репетицией» и «коллективным сочинением 1995--2003 гг.», режиссером значится А. Огарев, ученик Васильева. Это представление для понятности можно назвать театральным капустником, но по своему духу оно ближе не к современным, а к средневековым «ученым забавам», к жанру parodia sacra, который на христианском Западе лучше всего представлен «Вечерей Киприана», а на Руси -- «Службой кабаку». «На малей вечерни поблаговестим в малые чарки, также позвоним в полведришки пивишка...»
Рarodia sacra не «пародирование священного», а именно «священная пародия». Она вовсе не глумилась над церковной службой, точно так же, как участие в святочных забавах -- буйной беготне ряженых или «вождении кобылки» -- никак не дискредитировало доброго христианина. Средневековое сознание прекрасно отличало «поношение» от «дурачеств»; лишь в XVII веке официальная культура отвергла святочный смех как «бесовскую прелесть».
Юмор святочного представления в васильевском театре близок по типу к средневековому смеху, который (вновь процитируем ту же книгу) «направлен не на других, а на себя и на ситуацию, создающуюся внутри самого произведения» (стр. 10). Здесь пересмеивается отнюдь не образ мыслей, а лишь система знаков, не идея театра, а ее «формуляр». Надо бы показать это на примерах. Это так же сложно (и почти так же скучно), как разъяснять соль анекдота, но делать нечего, придется попытаться.
Начало спектакля: в спокойное и ясное пространство (белые стены, свечи на круглом столе, непременные венские стулья, в углу -- закрытый рояль) вплывают две женские фигуры. Легкие светлые платья, ясные глаза, тихие улыбки a la Рокотов: все как всегда. В качестве интродукции звучит дуэт Татьяны и Ольги, написанный Чайковским на лицейские стихи Пушкина: «Слыхали ль вы за рощей глас ночной...» Он исполняется так искренно, так нежно, что певучих красавиц (В. Смольникову и М. Зайкову) трудно заподозрить в каком-либо лукавстве -- пока в руках у них не появятся гипсовые львы с героическими мордами. Ну, конечно: старая-старая шутка, подчеркнутая в последнем куплете нарочито жесткой артикуляцией: «Вздохну-у-ули ЛЬВЫ!» И напоследок -- грациозный книксен, заставляющий расхохотаться вторично: о, как они нас надули!
Ан нет, не надули -- напротив, учтиво ввели в «мир нарушенных отношений», где весело распадаются все привычные, «правильные» смыслы. В этом мире сюжет «Папессы Иоанны», одной из ненаписанных «маленьких трагедий», рифмуется с вычеркнутыми строфами из «Сказки о золотой рыбке» («Не хочу быть вольною царицей, /А хочу я быть римскою папой» и т.д.). Застолье страховидно-забавных чудищ, приснившихся Татьяне (V глава «Евгения Онегина») превращается вдруг в собрание декабристов (14-я и 15-я строфы сожженной X главы), а уж какие замысловатые коленца выделывает дорожная беседа Онегина с Ленским из главы Ш -- и не передать.
Театр потешается: не над Пушкиным, конечно, не над нами, да и вообще ни над кем в мире, кроме себя самого, ряженого, вывернутого наизнанку. Что творится в святочной игре с речевым строем, разработанным «Школой...», со знаменитым «звуком атакующего слова»! Есть люди, которым словесная ткань васильевских спектаклей казалась (и продолжает казаться) той самой материей, из которой шьются платья для глупого андерсеновского короля, -- на святках они могли бы окончательно утвердиться в своем мнении. Какие уж тут открывающиеся «каналы» -- сплошное канальство, ничего более. Слова сталкиваются друг с другом и, срикошетив, разлетаются по самым невообразимым траекториям. Все смыслы изрешечены, перевраны насквозь. Разумный и упорядоченный мир уже к середине действия разрушен до основания. Никого теперь не удивит ни «американская дуэль» Онегина с Ленским (наповал будут уложены все, кроме самих дуэлянтов), ни появление сводного хора, исполняющего «Песню о Ленинграде» («Город над вольной Невой, /Город нашей славы трудовой...») с образцовым патетическим идиотизмом. Все изнемогли от смеха, нет сил подивиться даже кентавру, на прощание декламирующему последнюю строфу VI главы: «Дай, оглянусь. Простите ж, сени, /Где дни мои текли в глуши...» Все верно, пора расставаться. Святки кончились.
Они были не только отдыхом от благоговейной серьезности, но и ее утверждением «от противного». Весело обессмысливать мир, выворачивать его наизнанку могут лишь люди, твердо верящие в разумную красоту творения и благость Творца. Знающие наверняка: от наших дурачеств ничто не перекосится. Мы помним, когда надо остановиться, а Он понимает, что куролесим мы не со зла и кромешный, «неподобный» мир строим понарошку. Святочные представления в «Школе драматического искусства» не только и не столько упражнение в остроумии, сколько свидетельство: васильевский «скит» стоит крепко. И к этому мне нечего добавить.
Александр СОКОЛЯНСКИЙ

