 |
 |
|
N°138, 04 августа 2009 |
 |
ИД "Время" |
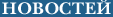 |
 |
 |
 |
Война до самого конца
Под знаком «славянского единения»
«Вторая Отечественная война», «священная война», «смертный бой славянства с германизмом»... В таком стиле представлялись современникам военные потрясения -- беспрецедентные по драматизму и роковым политическим, социальным и культурным последствиям, -- в которые 19 июля (1 августа по новому стилю) 1914 года оказалась втянута Россия. Мировая война изменила карту мира, безжалостно ускорив «закат Европы», подтолкнув крушение вековых империй, и в конечном счете сформировала условия для зарождения в ряде стран антидемократических режимов «нового типа».
«Новая война -- это новая революция!» -- предупреждал в начале 1914 года с трибуны Государственной думы Василий Маклаков, один из лидеров партии кадетов. Действительно, именно мировая война стала важнейшим фактором скатывания России в революционную пропасть Февраля -- Октября 1917 года. Россия оказалась не готова к ведению столь масштабной и длительной войны ни в военно-техническом и экономическом отношениях, ни с политико-психологической точки зрения. Тяжелейшие испытания катастрофически усиливали разрыв между властью и обществом. Разочарование населения в «идее войны» сменяло первоначальную видимость «патриотического энтузиазма», подкреплявшуюся официозными политическими спекуляциями. Война и ее влияние на менталитет населения создали в значительной мере социально-психологические предпосылки к крушению царской России в феврале 1917-го.
Под знаком "славянского единения"
Российское общество не ожидало, что война может разразиться летом 1914 года. Надежда, что столкновение великих держав удастся избежать, сохранялась даже после убийства 28 июня (11 июля) 1914 года наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги. Трагедия, с невиданной силой обострившая перманентный балканский кризис, случилась в Сараево -- столице Боснии, которая вместе с Герцеговиной была насильно присоединена к Австро-Венгрии в 1909 году. Россия, связанная обязательствами секретного международного договора, тогда осталась в стороне от конфликта. К тому же в правящих верхах никто не испытывал иллюзий по поводу боеспособности русской армии, к модернизации которой только приступали. В противостоянии двух блоков -- Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия) и стран Антанты (Англия, Франция), в союзе с которыми и выступала Россия, она преследовала свои геополитические интересы. На Балканах Петербург хотел видеть славянские государства независимыми от австрийского и турецкого контроля. Добивалась она и свободного прохода судов через черноморские проливы -- Босфор и Дарданеллы вне зависимости от капризов правителей распадающейся Оттоманской империи и влияний их союзников.
Внешнеполитическое поведение России, однако, не было агрессивным, а в ситуации июня--июля 1914 года были очевидны ее миролюбивые устремления, готовность к посредничеству в конфликте вокруг Сербии. И только после того, как Австро-Венгрия, поддерживаемая Германией, предъявила Сербии 10 июля (23 июля) жесткий и унизительный ультиматум, а затем развязала войну, Россия приступила к мобилизации. Переданная 18 июля (31 июля) германским послом графом Фридрихом фон Пурталесом нота с требованием остановить военные приготовления была отклонена (но при этом Россия заверяла, что ее войска не перейдут границу). На следующий день Германия объявила войну.
Идея солидарности со славянскими народами особо подчеркивалась и в манифесте Николая II о начале войны: «Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови со славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою силою пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования... Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди великих держав». Риторика на тему «славянского единения» была в те дни доминирующей. «Старший славянский брат тут, около нее (Сербии. -- И.А.), и прекрасно понимает, кого вызывают на бой насильники. Через голову маленькой Сербии меч поднят на великую Россию», -- предупреждали проницательные публицисты. «Мужайся, русский народ! -- призывало «Новое время». -- В великий час ты стоишь грудью за весь сонм славянских народов, измученных, задавленных и частью стертых с лица земли тевтонским натиском, который длился уже века. Забывшаяся Германия видит и всегда видела главное ограничение своего могущества и необузданных притязаний в мощи России и силе духа ее армии».
Николай II, обращаясь к членам Государственной думы и Государственного совета, собравшимся в Зимнем дворце 26 июля (8 августа) 1914 года, мог с полным основанием заявлять: «Тот огромный подъем патриотических чувств, любви к Родине и преданности к Престолу, который как ураган пронесся по всей земле Нашей, служит в Моих глазах и, думаю, в ваших ручательством в том, что Наша великая Матушка-Россия доведет ниспосланную Господом Богом войну до желанного конца». «Патриотический энтузиазм», массовая эйфория «единения царя с народом» и вера в скорую победу в «великой народной войне» создавали в Петербурге колоритную политико-психологическую атмосферу, напоминавшую даже праздничные, карнавальные гулянья!
Патриотический карнавал
Улицы столицы ежедневно заполнялись процессиями, насчитывавшими десятки тысяч человек. Шествия с российскими флагами и флагами стран-союзников, с иконами и пением гимна завершались глубокой ночью. «Да здравствует Сербия и ее армия!», «Долой швабов!», «Долой лоскутную империю!» -- с подобными криками толпы возбужденного народа направлялись к сербскому посольству на Фурштадтской улице. Горожане почти круглосуточно собирались на углу Садовой улицы и Невского проспекта, около редакции газеты «Вечернее время», ожидая появления в ее окнах текстов телеграмм с последними новостями. Отсюда начинались спонтанные уличные шествия. «Патриотическая общественность» устраивала «славянские обеды»; «Обществом славянской взаимности» был организован в Казанском соборе молебен и митинг, принявший резолюцию: «Славяне, объединяйтесь, исторический час пробил!» Шовинистический дурман захватывал и отдыхающих за городом. «Кто-то из публики достал национальный флаг, и дачники с пением двинулись по улицам местечка, -- описывал репортер обывательский «патриотический подъем» в дачном поселке на берегу озера в Шувалово. -- Манифестантов собралось около 500 человек. Дачницы размахивали зонтиками и угрожающе кричали: «Долой немцев».
«Военные бегали по всему городу, какие-то толпы демонстрировали; во главе их появились никому не известные лица, нередко верхом, с перевязями национальных цветов, говорили речи, производили враждебные манифестации перед немецким и австрийским посольствами, одним словом, город кипел, как в котле», -- вспоминал депутат Думы октябрист Сергей Шидловский. После объявления мобилизации всю ночь работали магазины, торговавшие военными предметами. Мобилизация прошла организованно, народ продемонстрировал неожиданную для властей законопослушность -- явка составила 96%. Благодаря запрету продажи водки пьяных эксцессов почти не наблюдалось. В Петербурге прекратились рабочие волнения -- в середине июля они переходили уже в столкновения с полицией и сопровождались погромами магазинов и трамваев.
Кульминация патриотических торжеств -- молебен на Дворцовой площади 20 июля (2 августа), после объявления Николаем II манифеста. 100 тыс. человек, собравшихся в воскресенье перед Зимним дворцом, приветствовали вышедшего на балкон государя. «Там не было ни грозной военной силы, ни какой иной стражи, -- описывали действо газеты. -- Там был только народ и его Венценосный вождь... В такие минуты, когда Верховная Власть становится на защиту национального достоинства и чести, совершается торжественный акт даже не единения, а полного и безраздельного слияния Царя с Народом». Картину «общенационального единения» через два дня дополнила манифестация 20 тыс. петербургских евреев. «Верноподданно» встав на колени у Зимнего дворца, затем они отправилась к памятнику Александру III на Знаменской площади, где синодальный хор исполнил еврейскую молитву об упокоении души императора. Еврейские манифестации, с портретами Николая II и свитками Торы, прошли во многих городах.
Наиболее агрессивно настроенные манифестанты «разряжались» за счет ненависти ко всему, что могло ассоциироваться с «тевтонской заразой». В центре Петербурга 22 июля (4 августа) появились демонстрации, участники которых выкрикивали: «Долой немцев!», «Бей их!» При попустительстве полиции камнями и палками громились немецкие колбасные и венские булочные, популярные рестораны и кафе. Как отмечали репортеры, «досталось», например, кафе Рейтера: «Кто-то из толпы крикнул, что на углу Садовой против места, где русские люди ежедневно собираются выражать свои патриотические чувства, помещается немецкая кофейня, из окон которой, быть может, шпионы наблюдают за русскими и доносят своему правительству. Толпа немедленно потребовала закрыть кафе, вошла внутрь и разбила все стекла». Пассажиры трамвая едва не растерзали человека, обмолвившегося в разговоре о «немецкой доблести»: «Пассажиры решили отправить этого господина в участок для удостоверения его личности, так как предположили в нем шпиона». Погром был устроен в редакции выходившей со времен Петра I на немецком языке газеты St.Petersburger Zeitung. Владельцы ресторанов, в том числе знаменитой «Вены», спешно заменяли «непатриотичные» вывески.
Но самым грандиозным «триумфом» стал разгром германского посольства на Исаакиевской площади. Около ста человек с топорами и кольями взобрались на крышу и стали сбивать гигантские бронзовые фигуры «тевтонов» и лошадей. «Каждый удар вызывал дружное одобрение и восторженные крики толпы», -- описывали журналисты, падение же одной из скульптур было встречено с неописуемым ликованием. Часть толпы ворвалась внутрь посольства и устроила погром, не пощадив ни винный погреб, ни хрустальную посуду, ни старинные картины и коллекцию бронзы эпохи Возрождения. При этом погромщики забрали портреты Николая II и императрицы и с пением гимна пронесли их по городу. В какой-то момент в спальне посла начался пожар. «Небывалое зрелище представляет собой бурное море десятков тысяч публики, через которое с большим трудом пробирались пожарные, освещая своими факелами толпу и придавая площади какой-то фантастический вид, -- описывал журналист «Биржевых ведомостей». -- Публика кричала «ура» и восторженно встречала пожарных, которых, однако, старалась не допустить до места пожара. «Пусть горит, пусть погибнут немцы», -- кричала толпа».
Мощным символическим событием стало переименование 18 августа (1 сентября) Петербурга в Петроград. «Петроград -- это великая внутренняя победа над закоренелой привычкой, над немецкими пережитками в России. Благое дело начато, а остальное приложится вскоре», -- ликовали активисты славянских организаций. Поэт и прозаик Борис Садовский формулировал для коллег актуальный «заказ»: «Нынешним поэтам подобает широко восславить Петроград в своих стихах. Чуждая кличка спала, как чешуя, с российской столицы, и как Феникс возник перед нами исконно русский славянский город -- Петроград». Затем стали возникать и другие патриотические прожекты. Предлагалось переименовать Шлиссельбург в старинный «Орешек», даровать Ораниенбауму народное название «Рамбов», возвратить Ревелю древнерусское имя «Колывань». Модным стало стремление граждан к замене «немецких» фамилий, к отказу от частицы «фон» и т.п.
"То был гипноз"
Колоссальный политический кредит доверия получила власть. «В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с его народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага» -- эта установка, продекларированная в манифесте Николая II, нашла отклик у всей легальной политической элиты. Дума на однодневной сессии 26 июля (8 августа) помимо утверждения военных ассигнований призывала граждан сплотиться вокруг «своего державного вождя, ведущего Россию в священный бой с врагом славянства». Оппозиция была готова отказаться от требования реформ до окончания войны и, представ «государственной силой», пойти на сотрудничество с властью.
Либералы пытались придать участию России в войне особый идеологический смысл. Проводилась параллель между искренним желанием содействовать победе и последующим торжеством идеалов конституционализма, политической свободы, преобразования самодержавия на демократических началах. Лидер кадетов Павел Милюков сформулировал один из мотивов «оборонческой» стратегии с трибуны Думы: «Мы надеемся, что, пройдя тяжелые испытания, нам предстоящие, страна станет ближе к своей заветной цели... В этой борьбе мы все заодно, мы не ставим условий и требований; мы просто кладем на весы борьбы нашу твердую волю одолеть насильника». В том, что Россия выступает в союзе с образцовыми демократическими государствами, Милюков усматривал «глубокий нравственный смысл» и залог «полного достижения освободительных целей этой войны»: «Да здравствует свободная Россия в освобожденном ее усилиями человечестве!»
Однако настроения в среде интеллигенции изначально были более сложными. Пророческими оказались сомнения, насколько в действительности искренним и осознанным был «в народе» патриотизм, готовность воевать и терпеть тяготы. Мучительные размышления были связаны и с проблемой идентификации «общественности» с государством, с режимом, вызывавшим до войны массу претензий и не пользовавшимся авторитетом. «Многие до конца войны так и оставались «у себя дома», разбираясь в своих ощущениях или горюя над совершившейся катастрофой, -- отмечал приват-доцент Петербургского университета социалист Владимир Станкевич. -- И почти во всех чувствовалось, что война воспринимается как нечто внешнее, чужеродное: масса русского общества никогда не почувствовала в войне своего собственного дела. Оно говорило: «мы сочувствуем войне», «мы помогаем ей», но оно не сказало: «мы воюем»». Как вспоминал историк Сергей Мельгунов, «положив безоговорочно «всю силу своего авторитета» на «весы власти», либеральная среда русского общества создавала для власти атмосферу самообмана, которая губительно влияла на ход событий». Тем более, как вскоре выяснилось, в стране преобладал «некритический патриотизм», «не было того подлинного национального подъема, который вызывает сознание, проникшее в самые поры народные, что отечество в опасности, но было много шумливого «шовинистического энтузиазма». «То был гипноз, обычный для начала всякой войны -- до первой неудачи», -- констатировал Мельгунов.
"Воевнули чем бог послал"
Первых же месяцев войны оказалось достаточно, чтобы подорвать «ура-патриотическую» эйфорию. Стало очевидно, что война для России не закончится уже «к Рождеству», взятием Берлина (хотя, как трубила пропаганда, «наши казаки в пяти переходах!»). Не оправдывались «шапкозакидательские» декларации военного министра Владимира Сухомлинова, что превосходно подготовленная русская армия будет вести войну исключительно наступательную, на чужой территории. К концу 1914 года война приобрела позиционный характер, превратившись в «войну на истощение», к чему Россия не была готова. Германия втрое увеличила свои силы на восточном фронте, сделав его главным. Вплоть до Февраля 1917-го Россия удерживала половину всех сил противника (187 дивизий), действовавших на европейских и азиатских фронтах.
Наступление русских войск в Восточной Пруссии в начале августа 1914 года почти сразу завершилось провалом и гибелью в окружении армии генерала Александра Самсонова. В угоду просьбам союзников, сравнивавших российскую мощь с «паровым катком», в бой были брошены войска, мобилизация которых еще не полностью завершилась и не обеспеченные резервами. На юго-западном фронте наступление оказалось успешнее -- были заняты Галиция и большая часть Буковины, продолжалось наступление в Карпатах. Но весной 1915 года на фронте произошел перелом, началось тяжелейшее отступление русской армии в Галиции. Были сданы Галич, Перемышль, Львов (спустя три недели после «триумфального» визита государя в завоеванную Галичину), оставлены Польша, Литва, эвакуирована Рига.
«Воевнули чем бог послал», -- метко выразился депутат Думы Василий Шульгин, находившийся в армии с начала войны. «Нет снарядов!» -- этот диагноз, ставший известным стране, символизировал удручающее положение с подготовкой армии к войне, с обеспечением вооружением и припасами. Как вспоминал генерал Антон Деникин, уже к октябрю 1914 года иссякли запасы для снаряжения воинских пополнений -- их «мы стали получать на фронте сначала вооруженными на 1/10, потом и вовсе без ружей». Помимо дефицита винтовок и патронов трагические последствия имела нехватка снарядов и в целом тяжелой артиллерии (ее роль недооценивалась военным ведомством, пребывавшим в иллюзиях о наступательном сценарии войны). Расход снарядов оказывался на порядок больше, чем было заготовлено в расчете на одно орудие! «Помню сражение под Перемышлем в середине мая (1915 года. -- И.А.), -- свидетельствовал Деникин. -- Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали -- нечем. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой -- штыками или стрельбой в упор: лилась кровь, ряда редели, росли могильные холмы... Два полка почти уничтожены -- одним огнем... Когда после трехдневного молчания нашей единственной шестидюймовой батареи ей подвезли пятьдесят снарядов, об этом сообщено было по телефону немедленно всем полкам».
«Большая программа усиления армии» была принята Думой за три недели до начала войны и могла быть реализована лишь в 1917 году. По заключению историка Корнелия Шацилло, «к лету 1914 года в полном соответствии с утвержденными нормами царская армия была снабжена артиллерией и другим вооружением хуже всех в Европе». Военное ведомство не «осваивало» даже тех денег, которые выделялись в предвоенные годы (к концу 1913 года было израсходовано около трети средств). Генеральные штабы других государств также ошибались в прогнозах, что война продлится три--шесть месяцев. Но Россия в силу слабости промышленного потенциала оказалась в самой тяжелой ситуации, не имея возможности резко увеличить выпуск боевого снаряжения. Мощности казенных заводов были ограничены, частные предприятия почти не допускались к размещению заказов, с доставкой же вооружения, закупаемого за границей, возникли проблемы (в том числе из-за блокирования портов на Балтике и в Черном море).
Шпиономания особого назначения
Военное руководство -- руководители Ставки и лично верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич -- предложило обществу собственное объяснение неудач. В ход пошло нагнетание психоза «шпиономании» и борьбы с «немецким засильем». Военачальники не догадывались, что истерия поиска «внутреннего врага» станет настолько популярна (на фоне военных поражений, усиливающейся хозяйственной разрухи и т.д.), что соответствующие мифы будут взяты на вооружение оппозицией. И они сыграли важнейшую роль в дискредитации правительства и даже верховной власти накануне Февраля 1917-го.
«Шпиономания в то время охватила всех. Считалось, что немцы все могут и всем пользуются», -- отмечал в декабре 1914 года воевавший в Восточной Пруссии Александр Верховский (в 1917 году -- последний военный министр во Временном правительстве). Генерал-квартирмейстер Ставки Юрий Данилов признавал, что некоторые деятели контрразведки и полиции «строили свою служебную карьеру» за счет всеобщей подозрительности, закономерно усиливающейся на фронте в условиях военных неудач. Чрезвычайно удобным для «разоблачений» оказывалось «инородческое население»: «Ясно, что легче было подвести под подозрение все инородческое население: евреев, немцев, поляков или другие народности, чем выдвигать против того или другого отдельного лица какое-либо конкретное обвинение, которое еще нужно было доказать». Появился огромный поток литературы, посвященной разоблачению козней «слуг германского императора» -- шпионов, землевладельцев-колонистов западных губерний, коммерсантов -- агентов «немецкого капитала», «профессоров-изменников, составивших свое благополучие на русские деньги». Например, помощник военного прокурора А.С. Резанов в сочинении «Немецкое шпионство» не останавливался перед фундаментальными обобщениями: «Война оголила душу немца, на дне которой таятся злоба, жестокость, обман и предательство. Надо привыкать к мысли, что мы не знали психологии немецкого народа, оценивая ее с точки зрения культурного человека, тогда как современный немец -- нравственный дикарь, прикрывающий свою душевную наготу всего лишь блеском крупповской цивилизации».
Резонансным «шпионским» делом стало обвинение и казнь в марте 1915 года полковника Сергея Мясоедова. На Мясоедова, занимавшегося контрразведкой в штабе 10-й армии северо-западного фронта и якобы передавшего немцам секретные сведения, «списали» отступление армии в январе--феврале 1915 года. Мясоедова не случайно выбрали главным фигурантом сфабрикованного в Ставке дела -- интрига была направлена против военного министра Сухомлинова. Жандармский полковник Мясоедов, длительное время служивший на пограничной станции Вержболово, знакомый с Вильгельмом II и многими немецкими офицерами, считался близким к Сухомлинову (а в 1911--1912 годах он состоял при министре для выполнения особых поручений). Сначала «дело Мясоедова» рассматривалось в Варшавском окружном суде, но его приговор из-за выявившихся в «деле» противоречий не утвердил командующий северо-западным фронтом Николай Рузский. Николай Николаевич был в гневе и, наложив на докладе резолюцию -- «Все равно повесить!», потребовал учредить военно-полевой суд из штаб-офицеров Варшавской крепости. Но и этот суд не смог доказать фактов шпионских контактов Мясоедова с противником непосредственно во время войны. Фигурировали лишь голословные обвинения в передаче сведений иностранным агентам во время службы в корпусе жандармов (до 1912 года!), в попытках сбора информации о расположении фронтовых частей, а также эпизод мародерства, за которое полагалась смертная казнь.
Летом 1915 года состоялось еще два суда над людьми, связанными как-то с Мясоедовым (среди них была и его жена), а главное -- с Сухомлиновым. Большинство подсудимых было казнено. Ради оправдания своих стратегических ошибок военные власти пытались убедить общественность в наличии мощной шпионской организации, нити которой тянутся наверх. В итоге Сухомлинова сняли с должности, а в апреле 1916 года арестовали -- по обвинению не только в корыстных злоупотреблениях, но и в «государственной измене» Лидеры союзных государств недоумевали: «Ну и храброе у вас правительство, раз оно решается во время войны судить за измену военного министра»...
"Глупость или измена?"
«Жертвоприношение» Сухомлинова (и еще нескольких одиозных министров) явилось одной из уступок оппозиции, весной 1915 года поднявшей «патриотическую тревогу». Под давлением общественности было создано Особое совещание по обороне с участием депутатов и представителей промышленных кругов. Ставка и правительство воспользовались шансом разделить с кем-либо ответственность за обеспечение армии. Однако недовольство властью приобретало все более радикальный характер, и в августе 1915 года 2/3 депутатов Думы сформировали Прогрессивный блок -- оппозиционную коалицию, потребовавшую создать «министерство общественного доверия». Отказ государя идти на принципиальные уступки блоку (напротив, проявив «твердость», он уволил ряд министров-«либералов», и назначил себя верховным главнокомандующим) программировал сценарий дальнейшей конфронтации власти и общественных кругов.
Стиль политических выступлений элиты (от социалистов до части правых националистов) определялся прежде всего идеологемами борьбы с «национальной изменой», «темными силами» и т.д. «Реальные политики», не считая возможным игнорировать популярные слухи, сделали ударной тему «внутреннего врага». Они считали своим «патриотическим долгом» критику правительства, не способного привести страну к победе, и надеялись, что это заставит власть пойти на реформы. Более того, активно эксплуатировался миф, что «немецкая партия» и «придворная камарилья» будто бы хотят заключить сепаратный мир с Германией, -- и ответом на «национальное предательство» может стать революция! Следствием подобных установок стало знаменитое выступление идеолога и лидера блока Павла Милюкова 1 ноября 1916 года, в день открытия думской сессии, в котором он неоднократно повторял вопрос: «Что это -- глупость или измена?» Речи Милюкова и других ораторов, произнесенные с думской трибуны, пользующейся огромным доверием в обществе, придавали дополнительную убедительность слухам об «измене».
Программная речь Милюкова не содержала «доказательств измены». Позже он признавал, что единственной, по сути, основой для «разоблачений» были настроения в политических и дипломатических кругах союзных стран, где деятельность премьер-министра и главы МИД России Бориса Штюрмера производила «удручающее» впечатление. Помимо слухов Милюков использовал сведения из швейцарской социал-демократической газеты о германских мирных предложениях, якобы направленных Штюрмеру. Также были зачитаны по-немецки цитаты из австрийской газеты, где имя «молодой императрицы» упоминалось в связи со слухами о существовании «прогерманской партии», -- и это было воспринято как прямое обвинение Александры Федоровны в «измене»! Подобная безответственность громких «компроматных» выступлений -- характерная черта психологии ведущих политиков, имевших огромное влияние на массовое сознание накануне Февраля 1917-го. Примечательно, что и после увольнения Штюрмера -- явного шага навстречу оппозиции -- ее лидеры не собирались ослаблять атаку на власть...
Заложники войны
Между тем затягивающаяся война предопределяла все большую «безнадежность» массовых настроений. Скорого завершения войны не просматривалось. «Брусиловский прорыв» -- начавшееся в мае 1916 года наступление на юго-западном фронте -- не получил развития из-за отсутствия резервов, а также несогласованности с действиями на соседних фронтах. Сербия была окончательно разгромлена. Потерпела поражения и армия нового союзника Антанты -- Румынии, и от русской армии потребовались дополнительные усилия, чтобы прикрыть участок фронта в несколько сот километров. Ситуацию с боевым снабжением армии удалось улучшить. Но при этом все сильнее сказывалась общая «усталость от войны», исчерпание человеческих ресурсов. Мобилизация 15 млн трудоспособных мужчин обострила дефицит рабочих рук в тылу. Начался призыв ратников ополчения 2-го разряда (в мирное время -- «белобилетников»), на очереди стоял уже призыв 30-летних военнообязанных. На фронте недовольство выражалось не только в легких саморанениях (таких солдат называли «палечниками»), но и в набиравшем силу дезертирстве («освободившаяся армия» достигала к Февральской революции 2 млн человек). Потери вооруженных сил России только в кампанию 1916 года составили 2 млн человек (всего же за годы войны они превысили 9 млн человек).
Не осталось следа от былого «патриотического энтузиазма» и в тылу. Бытовые тяготы, дефицит и дороговизна предметов первой необходимости, расцвет спекуляции вызывали резкое раздражение войной, властью и, что особенно важно, «буржуями» (прежде всего банкирами и «тыловыми мародерами» -- дельцами, наживавшими состояния на военных поставках). «В возможность победы на фронте уже никто не верил, -- передавал характерное для рубежа 1916--1917 годов настроение кадет Владимир Оболенский. -- Мы еще считали своим долгом говорить какие-то бодрые слова, ибо отдали войне слишком много душевных сил, чтобы отказаться от столь пошло звучавшего теперь лозунга -- «война до победного конца», но это было уже с нашей стороны лицемерием... ни прежней веры, ни патриотической энергии в обществе уже не чувствовалось». Нарастало предчувствие приближения социальных, революционных потрясений...
Февраль 1917-го подарил надежду на мир. Ненависть к «старому порядку» диктовалась во многом его нежеланием «даровать мир». Теперь от Временного правительства ожидали осуществления в первую очередь этого заветного идеала. Намерение демократических правителей продолжать войну, попытавшись реанимировать «патриотический подъем» образца 1914 года, но уже под лозунгом «защиты свободы и революции», во имя идей «свободной России», оказывалось обреченным на провал. Демагогический и безответственный клич «Долой войну!», созвучный, впрочем, с реальным настроем миллионов людей, неумолимо открывал большевизму путь к власти...
Игорь АРХИПОВ, кандидат исторических наук

