 |
 |
|
N°89, 25 мая 2007 |
 |
ИД "Время" |
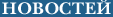 |
 |
 |
 |
Мажорный идиотизм
Оркестр и хор Большого театра исполнили Прокофьева
В этом сезоне Прокофьев уже звучал в абонементе оркестра и хора Большого театра в БЗК: оратория «Иван Грозный», грандиозное полотно, возникшее из музыки к знаменитому фильму. В нем, несмотря на исторические ужасы, проявилось упрямое свойство композитора, в котором в XX веке ему просто нет равных: бешеная, порой зашкаливающая духоподъемность, несмотря ни на что и вопреки всему. Что бы ужасное ни происходило с автором в реальности, за какой бы сюжет он ни брался, неистребимо здоровое чувство жизни все равно выводило его на дорогу позитива. Сущность музыки, не меняющаяся с годами, проявляется в разное время и по всякому поводу. В авангардной «Скифской сюите» (1915) с ее напором, сокрушающим каноны прекрасного (не выдержав изображения восхода солнца, Глазунов покинул зал), в бурлескной опере «Любовь к трем апельсинам» (1921) с ее искристым маршем, в величавой оркестровой пьесе с восхитительным названием «Встреча Волги с Доном» (1951), завершающейся громоподобными аккордами.
Количество позитива в этом сочинении таково, что оно кажется не серьезным посланием, а игрой. Например, в послушного советского композитора, который воспринимает идиотизм государственного масштаба (строительство канала «Волгодон») как руководство к действию, создавая в музыке что-то запредельное в смысле подъема. Встреча двух русских рек показана с такой безумной праздничностью, что здесь видится, конечно, не покорность власти, а, напротив, вызывающий, какой-то остервенелый демарш. На такую игру провоцирует базовое свойство натуры, в котором композитору также нет равных в XX веке: идиотизм как отрицание канона. Испытывая восторг перед самим процессом жизни, композитор преувеличивает радость, а преувеличивая, отрывается от реальности, отменяя ее обыденность. Прокофьев славит, но с таким театральным преувеличением, что это превращается в вызов взрослому миру с его главной чертой -- непререкаемой серьезностью.
В этот вечер игра прошла в трех сетах: поэма для симфонического оркестра «Встреча Волги с Доном», кантата для смешанного хора и оркестра «Здравица» (1939) и «Ода на окончание войны» для большого оркестра (1945). Три сочинения, написанные едва ли не в самый тяжелый период жизни государства и композитора. Сверкающие мелодии у меди, героическая лирика, упругие ритмы, настойчивые мажоры и прочие ингредиенты здоровой психики образовали такое количество праздника, что вечер без натяжки выглядел торжеством особо крупных размеров -- жанром, в концертной академической среде подзабытым. В «Здравице» смысл заключался уже в том, что сочиненная к юбилею Сталина кантата состояла из фольклорных источников, сам список которых создавал вполне человечный потрет вождя народов: русские, украинские, белорусские, кумыкские, курдские, марийские и мордовские тексты. И хотя слов, увы, почти не было слышно (хор Большого театра находился позади оркестра), количество ликующего мажора, дошедшего к финалу до неистовства, было настолько впечатляющим, что слова, в сущности, и не требовались.
Так случилось и в завершающей части прокофьевского триптиха -- «Оде на окончание войны». Здесь авторский позитивизм проявился уже на уровне состава: восемь арф, четыре рояля, духовые, ударные, контрабасы и -- никаких компромиссов -- отсутствие смягчающих обстоятельства скрипок, альтов и виолончелей. Когда в оркестре высветилась величественная тема в сопровождении аккордов, извлекаемых шестнадцатью руками сидевших на авансцене арфисток, жара в зале перестала быть грозной -- настоящее зарево полыхало в музыке, причем от самого начала до самого конца. Симфонический оркестр Большого театра и дирижер Александр Ведерников обрушили эту массу на зал, не моргнув глазом, как непререкаемые авторитеты по внедрению мажорности в жизнь. И, между прочим, не было никаких сомнений, что так оно и есть.
Контрастом к победоносным созвучиям оказалась вторая часть вечера, где был исполнен Третий концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова, серьезного современника Прокофьева. Здесь все сразу опустилось на свои места -- Николай Луганский и Симфонический оркестр Большого театра провели обычный концертный ритуал, когда досконально знакомая музыка очень серьезно и очень важно исполняется примерно так, как всегда. Погруженный в себя солист с академической выправкой докладывал о всех звуковых красотах, доходя в технически нагроможденных местах до полного автоматизма и не стремясь к диалогу с партнером, проявлявшему порой больше душевного тепла, чем невозмутимый пианист. Вопрос, зачем нужно исполнять эту музыку, не открывая в ней ничего нового и не покоряя каким-то изумительным качеством, оставался открытым почти до конца. Как вдруг в финале незадолго до генеральной кульминации случилось нечто -- оторвавшись от чисто выструганных звуков, солист вдруг внутренне преобразился, и случился какой-то непредвиденный выброс энергии. Эдакий форсмажор. Не прокофьевский -- щедрый, заполняющий весь мир. Но все же после долгих отмеренных тактов вполне весомый.
Марина БОРИСОВА

