 |
 |
|
N°60, 06 апреля 2007 |
 |
ИД "Время" |
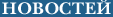 |
 |
 |
 |
Снова наша не взяла
Итак, московские журналы успешно выполнили план первого квартала по поставке романов читающему населению. В отстающих -- только «Знамя». В чемпионах -- «Дружба народов», приплюсовавшая к «Дому на луне» Марины Москвиной «Лотерею «Справедливость» Сухбата Афлатуни (№2--3). Дело знакомое: молодой безработный с высшим образованием случайно попадает в экстравагантную контору, которая на западные (по ходу дела распиливаемые) немереные башли проворачивает очередную фантастическую аферу -- населению предложено присылать письма, свидетельствующие о тех несправедливостях, что довелось пережить корреспондентам странной фирмы, польстившимся на приманку будущей лотереи. Поскольку жертвой несправедливости когда-то оказывался каждый, а жажда справедливости (вознаграждения, возмездия, компенсации) обуревает тоже едва ли не каждого, поток писем, чтением которых и занят главный герой, неиссякаем, а при входе в контору ежедневно выстраивается очередь. Параллельно разворачивается история гениального ученого, изобретающего некую «бомбу любви», взрыв которой должен изменить природу человечества (ликвидировать несправедливость как таковую). Параллельно крутится несколько любовных, бандитских, семейных, околополитических и т.п. историй. Фантастическая притча перемигивается с фельетоном, триллер -- с физиологическим очерком, психологическая повесть -- с разбитной кавээнщиной. Автор изо всех сил старается быть философичным, остроумным, элегантным, трогательным, серьезным, поэтичным, экзистенциально отчаявшимся и сведущим во всевозможных хитросплетениях глобальной экономики-политики-социологии. Думать о том, как увязать концы с концами или выдержать единство характера (типажа), ему некогда. И, пожалуй, не слишком хочется. Отдельные сцены вроде бы и недурно сделаны, но едва ли не каждая деталь, реплика, сюжетная извилина напоминает о чем-то уже читанном. Можно назвать это коктейлем, можно -- пазлом, всего лучше -- «средним арифметическим» постсоветской словесности новейшего розлива. Самое симпатичное в романе -- пьянящая ташкентская атмосфера и легкий среднеазиатский акцент при обрисовке стандартных ситуаций. Происходи все то же самое в столице бывшего СССР, дочитать было бы куда труднее.
На вопрос, почему роман Александра Иличевского называется «Матисс» («Новый мир», №2--3), можно дать энное количество ответов. Например, простодушно-лобовой: потому что Матисс -- любимый художник центрального персонажа. Об этом в тексте сообщено. Правда, тут пытливый зануда полезет с новым недоумением: а почему этот бывший физик, ставший бомжем по высокоидейным соображениям, находит вкус именно в Матиссе, а не в каком-нибудь Тициане, Ренуаре или Кабакове? Но длинная серия вопросов, ни один из которых не может стать последним, возникнет и при выдвижении любой другой -- сколь угодно навороченной -- гипотезы. Текст Иличевского принципиально произволен. Здесь нет и не может быть каких-либо внутренних (психологических или символических) мотивировок, кроме неодолимого желания автора выдать здесь и сейчас именно такой стилистический пассаж, философический концепт или сюжетный аттракцион. Не потому у бомжа Вади (безыдейного, жизнью обреченного на блаженное злосчастье) оказалось две биографии («московская» и «южная»), что юродивые, дескать, обретаются вне нормальных пространственно-временных координат, а потому, что автору страстно хотелось пустить в дело обе «истории». Бывший физик взалкал подземельных мудростей и «естественного» (противоестественного!) существования не потому, что окружающая жизнь насквозь иллюзорна и бескачественна и -- одновременно -- жестока и коварна, напротив, жизнь представлена такой (навязчиво, но с постоянными противоречиями в определениях) для того, чтобы дать возможность герою удалиться под сень струй (сперва в мифологические московские подземелья, где высокохудожественно разрушается «секретное» метро сталинской эпохи; затем -- на российские просторы с присущими им колхозами и психушками). Поэтизация небытия -- занятие на любителя (я не из их числа), но отнюдь не тождественное обличению свинцовых мерзостей жизни. Но это устарелая точка зрения -- в тексте без мотивировок возможно все, любое косноязычие здесь сходит за «платоновское», любая вычурность -- за «набоковскую». «В то время как Вадя только присматривался, скрыто уважая в ней свою собственную к ней жалость, которую смирял суровостью, черствостью, Королев пытался что-то сделать. Нельзя сказать, кто был добрее к ней, но Вадя благодаря чутью к жизни обладал той сложной гибкостью натуры, какая часто оказывается успешней прямой склонности к добру». Успешней так успешней. В чем? Не спрашиваю, ибо надлежащей «сложной гибкости натуры» у меня нет. И вряд ли когда-нибудь появится. Когда-то «матиссообразная» проза (только несравненно лучше сделанная) казалась мне интересной, потом -- страшно раздражала. Теперь вызывает лишь неудержимую зевоту. Как писал сочинитель, невероятным сходством с которым Иличевский зачем-то одарил своего -- безыдейного -- бомжа Вадю, Не то беда... Беда, что скучен твой роман.
О «Редких землях» Василия Аксенова («Октябрь», №2--3; одновременно роман, как водится, выпущен «Эксмо», а потому размещен в больших московских магазинах на привилегированных стойках) писать нет сил. О том, что великолепный Гена Стратофонтов, переименованный в Гена Стратова, прошел сквозь позднесоветский комсомол, стал нашенским супермиллиардером (со всеми вытекающими печальными последствиями), я в предыдущем обзоре уже доложил, а дальше... Что не скажешь, выйдет косо. Ругать Аксенова охотники и без меня сыщутся. Облизывать классика с унылым подобострастием -- тоже. Можно (должно) констатировать: роман очень аксеновский. (Но это ничего не значит -- очень аксеновским был, к примеру, и предыдущий, совсем провальный, «моквакающий» опус.) Благородство писателя, сочувствующего осужденному олигарху и сохраняющего здоровое отвращение к советской власти и ее последышам, для меня сомнению не подлежит. Оспаривать аксеновские соображения о новейшей истории России вообще и роли в ней комсомола в частности (по мне -- омерзительной, вне зависимости от того, любили ли последние младофюреры джаз и джинсы и что с ними сталось потом) -- нелепо: роман не трактат. Цепляться к не всегда удачным шуточкам, кокетливому самолюбованию и страсти к фирмовому шмотью -- и вовсе идиотизм. Всегда это у Аксенова было, но далеко не всегда погоду делало. Не делает и в «Редких землях». Модных барских прибамбасов там выше крыши, но героям и автору от того легче не становится. Плохо все кончилось, хоть и на чарующем морском берегу.
«Должен признаться, что не ожидал такого грустного финала. Все как-то грезился некий вызов, что-то вроде победы, встреча не призраков, а живых, волна какого-то отпетого героизма, смесь мягкой грусти с жесткой иронией; в этом роде. Увы, за пять страниц до конца все повернулось иначе. Так уж не раз случалось в моей практике сочинительства романов. Не только характеры показывают свой нрав, противится и композиция. Роман разваливается и тем самым свершается. «Редкие земли» обретают ритм и поэтический слог», -- так пишет Аксенов, уже угробивший своих любимых героев. То ли издеваясь над собой, то ли все же пытаясь выдержать хорошую мину при сомнительной игре. «Свершается» ли «развалившийся» роман при переходе от неровной прозы к неумелым (возможно, призванным тронуть наивностью) стихам, вопрос спорный. Блажен, кто верует, тепло ему на свете... Что не отменяет другой постоянно актуальной поэтической строки -- той, что вынесена в заголовок. И имеет отношение не только к фабуле «Редких земель».
Андрей НЕМЗЕР

