 |
 |
|
N°212, 15 ноября 2005 |
 |
ИД "Время" |
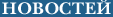 |
 |
 |
 |
Дарящий
Восемьдесят лет назад родился Юлий Даниэль
Имена Даниэля и Синявского обычный житель Страны Советов узнавал раньше, чем их сочинения. Знакомиться с которыми в принципе был не должен. Как не должен был различать этих «перевертышей», «оборотней», «наследников Смердякова». Со временем, когда вольномыслящих писателей стало больше, когда протестные выступления, публикации на Западе, а затем и вынужденные отъезды вошли в обычай, задачей партийной жандармерии стала не только организация «процессов исключения» и изготовление насквозь лживых «сведений» о тех романах, стихах или статьях, что обрели бытие помимо главлитовской инквизиции, но и превращение их авторов в однородную безликую «диссидентскую» массу. (Для того и изымались из библиотек книги «провинившихся».) С Даниэлем--Синявским было проще -- с самого начала предлагалось видеть двухголового монстра, какого-то наоборотного «Минина--Пожарского». Меж тем художнику (да и всякому человеку) оскорбительно и горько оказаться лишь чьей-то частью, функцией, тенью. Андрей Донатович Синявский и Юлий Маркович Даниэль дружили, сочинения Николая Аржака (Даниэля) и Абрама Терца (Синявского) шли на Запад одним путем, авторов ловили, обвиняли, поливали грязью, «судили» одни и те же персонажи, а те, кто защищал писателей, естественно, не могли отделять одного от другого. Все так, но Даниэль и Синявский были отдельными и несхожими людьми.
Во время газетной травли, суда и приговора я учился во втором классе и почти не слышал тогдашний пакостный звон. (Все-таки «почти». Что-то досягало детских ушей. Но это не было «мощным осуждающим гласом всего советского народа».) Однако и мне имя Даниэля стало известно много раньше, чем тексты Аржака. В 1970 году мать одноклассницы рассказывала мне о Даниэле -- не столько о его прозе и процессе (хотя и об этом тоже, сюжет повести о Дне открытых убийств я узнал тогда), сколько о человеке. Тогда же я услышал (и хоть с погрешностями, но запомнил) лагерное стихотворение, которое перечитал лишь в посмертном (первом в России) сборнике Даниэля (1991). Подари мне незнакомый город,/ Чтобы стал я сильным и счастливым,/ Подари мне город на рассвете,/ Вымытый ночным коротким ливнем. // Обмани меня, что длится лето/ И что нам не надо торопиться,/ Покажи, как мягким светом льется,/ Отражаясь в лужах черепица. // Подари мне запах теплой хвои,/ Старых стен иноязычный говор,/ Улочки, мощенные камнями,/ Бурых башен простодушный гонор. Не могу сказать, что тогда меня больше потрясло: точность в портрете латвийского городка (я-то их видел воочию), просветленная печаль интонации, высокая простота чаяний поэта (Чтобы стал я сильным и счастливым), загадочная приглушенность стихового звучания (незарифмованность нечетных строк -- ведь хочется же перетянуть слово «лето» на ударную позицию!) или то, что стихи эти были выдохнуты в лагере. В тринадцать лет симпатии к советской власти я растратил почти полностью, но и сохраняйся они у меня, тогдашнего, не смог бы поверить, что поэт, написавший такое, может быть дурным человеком.
Такая доверчивая любовь к жизни, такая тоска по красоте, такое ощущение внутренней теплоты земного бытия не могли существовать без внутренней гармонии. Я был настроен на верную волну восприятия, и хотя прочесть прозу Даниэля мне случилось много позже, услышал в ней прежде всего эту скрипичную мелодию. Нельзя сводить повести «Говорит Москва» и «Искупление» к политике. «Либеральные» умствования о том, зачем им понадобился День открытых убийств, автору так же отвратительны, как указ о проведении этого дня, желание использовать его для решения «личных дел», трусость тех, кто запирается в квартирах, и овладевшая рассказчиком страсть справедливого возмездия (эпизод, который советские душегубы именовали человеконенавистническим, -- эпизод, что вершится воплем раскаяния соблазнившегося было рассказчика). Интеллигентский «мягкий» террор, жертвой которого стал герой «Искупления», вырастает из террора государственного, питается его соками; он стоит на том же симбиозе фанатизма и конформизма. Чекист-расстрельщик («Руки») ужасен, но Даниэль заставляет нас увидеть в нем не только безнадежное чудовище, но и падшего человека. Который мог бы и не пасть. Подлинное искупление, выздоровление, освобождение возможно (вопреки множеству сюжетных и стоящих за ними реальных обстоятельств), возможно -- потому что речь идет о людях. В финале повести о Дне открытых убийств страшное заглавье (зачин официальных радиосообщений -- в том числе о чудовищном указе) обретает совершенно иной -- теплый и обнадеживающий -- смысл.
«Я иду и говорю себе: «Это -- твой мир, твоя жизнь, и ты -- клетка, частица ее. Ты не должен позволять запугать себя. Ты должен сам отвечать за себя, и этим -- ты в ответе за других». И негромким гулом неосознанного согласия, удивленного одобрения отвечают мне бесконечные улицы и площади, набережные и деревья, дремлющие пароходы домов, гигантским караваном плывущие в неизвестность.
Это -- говорит Москва».
Годы спустя, объясняя замысел книги, которая должна была стать итоговой, а осталась неоконченной, Даниэль напишет: «Дело в том, что я, наверное, родился под счастливой звездой: мне очень везет в жизни. У меня были прекрасные родители -- добрые, веселые, талантливые. Я был на войне и остался жив. Я с детства хотел стать литератором -- и стал им. Заключение, кажется, не испортило мне характер, не изломало, не озлобило. Женщины, которых я любил, любили меня, и о каждой я думаю с нежностью и благодарностью <...> Да и в собственной моей жизни было много такого, о чем стоит вспомнить, а может, и подумать. Это тоже подарок свыше.
Подарки надо отдаривать. Для этого у меня есть единственная возможность -- написать об этих людях, об этих встречах, об этих происшествиях». Так же, как у героя повести, за которую Даниэль получил срок, -- человека, который отверг «назначенную» ему роль раба и убийцы, который рассказал о пережитом, веря, что его речь сливается с шумом любимого города. Он и отдаривал -- стихами, прозой, переводами, самим бытием своим. Несгибаемостью, душевной высотой, благородством. Он отдаривал -- потому что любил подарки и дарящих. Об этом его, наверно, самые известные стихи: Вспоминайте меня, я вам всем по строке подарю... По-моему, неотрывные от других -- с просьбой о подарке и верой в ее исполнение.
Подари -- чтоб он при нас проснулся,/ Город за оконной занавеской,/ Чтоб могли мы вместе любоваться/ Статью горожанок деревенских. // Чтобы уши, и глаза, и ноздри/ Утолили многолетний голод -- / Подари мне город на рассвете,/ Подари мне незнакомый город.
Андрей НЕМЗЕР

