 |
 |
|
N°116, 01 июля 2005 |
 |
ИД "Время" |
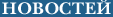 |
 |
 |
 |
Довольно!
Тадаси Сузуки привез в Москву очень необычного «Иванова»
«Если и теперь не поймут моего "Иванова", то брошу его в печь и напишу повесть «Довольно!» -- писал Чехов своему другу и издателю А.С. Суворину в начале октября 1888 года. Ему же, через три месяца: «Я лелеял дерзкую мечту суммировать все то, что доселе писалось о ноющих и тоскующих людях, и своим "Ивановым" положить предел этим писаньям». Вторую из процитированных фраз великий японский режиссер Тадаси Сузуки вряд ли захотел бы принять во внимание; за первую, я полагаю, не преминул бы уцепиться. Смерть чеховского героя в его спектакле не выверт неврастеника, а спокойный, вполне осознанный жест человека, решившего, что жить дальше незачем. Иванов придумал самому себе испытание, он его провалил. Никакие «вторые попытки» ему не нужны: довольно!
Сузуки мог бы предложить Иванову сеппуку (оно же -- харакири), смерть самурая -- он этого не сделал. Впрочем, и пистолет к виску герой Чехова как-то забывает приложить с достаточной убедительностью, он умирает сам собою, от всего сразу. Что не отменяет исходной посылки: эта смерть добровольна и необходима.
Я никогда не мог понять, что и как Тадаси Сузуки преподает своим ученикам в Центре исполнительских искусств Сидзуока (впрочем, то же касается Центра Гротовского в Понтедере и «Школы драматического искусства» Анатолия Васильева). Возможно, критику это знать и необязательно; ему достаточно видеть, как выучка более или менее продвинутых учеников (не говоря уж о постоянных сотрудниках) Сузуки отличается от практики подражания. Искусство подражания нам, к примеру, демонстрируют отечественные артисты, играющие «Короля Лира» в постановке Сузуки на сцене МХТ: все то же, да не то же. «Сирано де Бержерак» на прошлом Чеховском фестивале и нынешний «Иванов», собственная продукция центра Сидзуока, -- это коренным образом другой театр. Отчетливость жеста, скорость осмысленного движения, умение замирать и оживать в том сценическом существовании, которое разработал Сузуки: здесь мало сказать «мастерство», здесь нужно говорить о мастерстве, выходящем за собственные пределы. Искусству нужно свернуть шею, чтобы оно стало чем-то иным, несравненно более важным: если говорить о стихах, то в Европе это умел делать Верлен («Все прочее -- литература»); у нас, в России, -- Мандельштам. Если говорить о театре, то это всегда остается тайной мастера и передается только из рук в руки, без посторонних. Я не думаю, что воспитание актера по системе Сузуки отличается от педагогических систем Гротовского и Васильева большей рациональностью; оно отличается лишь большей удобопонятостью для добросовестных имитаторов.
Все это, однако, не мешает нам говорить о смысле тех зрелищ, которые Тадаси Сузуки предлагает зрителю. В «Иванове», как и в «Сирано», режиссер прежде всего ищет главный нервный узел пьесы. Он сводит все душевные метания и терзания заглавного героя (Акихито Окуно) к одному, простейшему: Иванов мучается тем, что женился на еврейке.
Легче легкого возмутиться: и это все? Да, все, если мы не вспомним о том, как растравлен чеховский герой соседством с окрестными «зулусами», как важна для него обязанность доказать самому себе разницу между собой и ними. Если не вспомним, как в начале 80-х годов XIX века по югу России прокатилась волна еврейских погромов, а в мае 1887 года император Александр III принял т.н. «Временные правила», закрепившие за евреями права второсортных людей. Чеховский Иванов, взяв замуж несчастную Сарру, в браке -- Анну Петровну, делает это не только по любви, но и по обязанности порядочного человека. И тут Иванов выясняет страшную для себя вещь: он сам -- такой же «зулус», такой же тупой антисемит, как и все прочие. Чехов никак не подчеркивает, но и забыть не заставляет: детей у них нет. Свою жену Иванов не любит и полюбить не может. Никак.
Анна Петровна, она же Сарра (Юкико Сайто), все время сидит пообок в чем-то синем, молча вяжет на спицах. Иванов разговаривает, главным образом сам с собою. Замечательно то, как у японского актера звучат чеховские фразы: «Пока мужчина здоров, силен и весел, вы не обращаете на него никакого внимания, но как только он покатил вниз по наклонной плоскости и стал Лазаря петь, вы вешаетесь ему на шею. Разве быть женой сильного и храброго человека хуже, чем быть сиделкой у какого-нибудь слезоточивого неудачника?» -- ни в одном слове не слышно слабости, ни одна фраза не заканчивается на интонационном спаде, слова жестко и беззастенчиво рубят воздух. Свыкнуться с этой речевой манерой очень трудно, отстраниться от нее на протяжении действия нельзя никак, разве что отключиться вовсе. Отключившихся можно лишь пожалеть -- и забыть о них, для их же блага.
Большинство персонажей «Иванова» передвигаются по сцене на корточках; их тела, от подбородков до пят, закрыты плетеными корзинами. В число «зулусов» попадают и Шурочка, и Лебедев, что было бы отвратительно драматургу (впрочем, «Иванов» не такая уж гениальная пьеса), но нам важно понять само присутствие этих корзин. Первая, самая естественная ассоциация: «Человек-ящик» Кобо Абэ: это все читали, и все знают, как человеку (будь он хоть полный «зулус») необходимо собственное, одноместное убежище. Вторая ассоциация -- статья Ежи Гротовского «Театр как средство передвижения», или, в ином переводе, «Театр как проводник». Там объясняется, что обычный театр есть режиссерская машина, помогающая поднимать зрителей на новые высоты. Вместе с тем необходим театр, поднимающий куда-нибудь деятелей театра. Вообразим себе корзину, привязанную к ней веревку и блок. Мы, сидя внутри, чуть-чуть потянули; корзина чуть-чуть приподнялась -- и мы можем вздыматься до верха, т.е. до уровня блока.
Когда актер Акихито Окуно произносит чеховскую реплику: «Меня так и подмывает сказать тебе что-нибудь ужасное, оскорбительное... (Кричит.) Замолчи, жидовка!..» -- он поднимается выше блока. Дальше начинается свободный полет, но о том, что это такое, мало кому известно.
Александр СОКОЛЯНСКИЙ

