 |
 |
|
N°108, 21 июня 2005 |
 |
ИД "Время" |
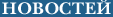 |
 |
 |
 |
Танцы бытия и ничто
Сто лет назад родился Жан-Поль Сартр
Летом 1966 года аспирантка, а впоследствии профессор Ленинградского университета Эльга Юровская, находясь на стажировке во Франции, попросила о встрече Жан-Поля Сартра, о котором она писала диссертацию. Мэтр согласился и в ходе беседы не только ответил на вопросы, но и высказал несколько соображений о восприятии своего творчества в России. Этому восприятию, по его словам, препятствуют эротические сцены в его романах («русской литературе свойственна некая стыдливость»); кроме того, он иначе, чем русские, смотрит на проблему ответственности за преступления второй мировой войны -- суд над ними «должна осуществлять сама виновная личность, а не некий юридический орган» вроде Нюрнбергского трибунала; именно такой суд вершит над собой герой его последней драмы «Альтонские затворники».
Ныне, четыре десятилетия спустя, русская культура вроде бы успешно избавилась от излишней стыдливости, а что касается исторического суда над собой, он нам по-прежнему дается хуже, чем французам или немцам. То ли поэтому, то ли по какой-то иной причине, но имя Сартра, много значившее для интеллигенции 60-х, ныне почти исчезло с нашего литературного горизонта. Тем не менее столетие со дня его рождения, отмечаемое целой чередой памятных мероприятий по всему свету, не было забыто и в России. Оно стало поводом для конференции «Жан-Поль Сартр в настоящем времени», которая была устроена 8--9 июня Смольным институтом свободных искусств и наук в Петербурге, а открылась мемуарным рассказом Эльги Юровской о ее давней встрече с Сартром. Всего же выступили восемнадцать отечественных и иностранных специалистов, говоривших о литературном, философском и политическом пути французского писателя и мыслителя.
Был ли Сартр писателем своего времени? -- этим вопросом задался Франсуа Нудельман (Париж). Вопрос далеко не прост: Сартр хотел быть погруженным в свое время, проницаемым для его проблем, для этого он (по крайней мере в послевоенный период) откликался на актуальные события, «лез в дела, которые его не касались»; но все это была лишь «пассивная» современность, тогда как в творчестве он часто оказывался парадоксально анахроничен. Его концепция личности заставила Мишеля Фуко назвать Сартра философом ХIХ века посреди века ХХ, его «экзистенциальные психоанализы» писателей минувшего столетия (Бодлера, Малларме, Флобера) показывают мучительную прикованность аналитика к проблемам и парадигмам прошлого. Наконец, послевоенной политической гиперактивностью Сартр инсценировал собственную современность, искупая свою политическую пассивность 30-х -- начала 40-х годов. Так он пытался реализовать «фантазм самопорождения», сделаться своим собственным истоком, самому сотворить собственное время.
Двойственная историческая роль Сартра -- одновременно и авангардиста и консерватора -- рассматривалась и в ряде других докладов. Елена Гальцова (Москва) помещала его театральную эстетику между традицией «хорошо сделанной пьесы» ХIХ века и «театром жестокости» Антонена Арто. Артемий Магун (Санкт-Петербург) анализировал «ничто» -- оно тоже имеет свою историю, и Сартр, наряду с Хайдеггером, был одним из пионеров в разработке этого философского концепта: он увидел в «ничто» как силу творческого преодоления, так и опасность внутреннего раздвоения личности, «самообмана», однако переоценивал место «события» в «ничтожении» мира. Сергей Зенкин (Москва) показывал «регрессивную позицию» Сартра в отношении языка: язык для него остро переживаемый личностный опыт, но в отличие от ряда других мыслителей опыт неподвижно-подавляющий, в нем нет развития, накопления, диалектики.
Кристоф Альсберг (Гент) тоже выделял у Сартра невнимание к «силе языка», а как следствие слепоту к Другому: в принципе, как теоретик, Сартр очень сильно утверждал важность Другого для становления «я», но описание этой фигуры, которая конкретно существует именно постольку, поскольку у Другого есть собственный язык, ему не давалось. Это сказывалось, например, в его теории антисемитизма: по мысли Сартра, антисемит проявляет слабость, не может признать самостоятельность собственной личности, потому и валит ответственность за происходящее на какие-нибудь еврейские козни; но сходную слабость Сартр усматривает и у «неподлинных евреев», ассимилянтов, не признающих собственного еврейства, -- при этом он недооценивает творческую силу письменной культуры, которой многие из этих людей обогатили культуру общеевропейскую. С другой стороны, сартровская концепция антисемита, как выясняется, неплохо работает при анализе писателей, для которых проницаемость для чужой речи оказывается одновременно и творческой чуткостью и опасной внутренней неустойчивостью, способной привести к вульгарной ксенофобии. Михаил Недосейкин (Воронеж) показал это у Луи-Фердинанда Селина, но, пожалуй, та же схема применима и к ряду отечественных авторов -- от Достоевского до иных наших современников.
На конференции говорилось о многих проблемах сартровского творчества: его автобиографическое письмо анализировали Брюно Клеман из Парижа (развернутые «примеры» экзистенциальных ситуаций, которыми изобилуют теоретические труды Сартра, это, по сути, автобиографические микрорассказы), Александр Таганов из Иванова (автобиографизм у Сартра и Пруста), Сергей Рындин из Санкт-Петербурга (письмо о себе у Сартра и Мишеля Лейриса); проводились сравнения и с другими писателями, от Беккета до Фаулза. Пожалуй, особенно любопытны и живописны отношения между Сартром и Жоржем Батаем, рассмотренные в докладе организатора конференции Сергея Фокина (Санкт-Петербург). Их знакомство в Париже в середине 40-х годов принимало разные формы -- не только взаимного чтения и обмена печатными откликами, но и, скажем, пьяного танца друг против друга на какой-то вечеринке: «Вы -- Бытие, а я -- Ничто», -- говорил Сартр своему визави, обыгрывая название собственного философского трактата. В итоге знакомство вылилось в череду споров и скандалов, однако же оказалось для обоих судьбоносным. После -- и, по мысли докладчика, под влиянием -- этого знакомства Батай, прежде «никогда не пытавшийся ничего утверждать», начал ориентироваться в своем письме на доказательное философское изложение, из безоглядного богемного авангардиста превратился в серьезного теоретика и интеллектуального журналиста, а Сартр, наоборот, оставил солидную университетскую карьеру философа, чтобы стать свободным и «ангажированным» интеллектуалом-писателем. Во французской танцевальной терминологии подобный обмен называется «шассе-круазе»...
Этот эпизод, показывающий чарующую влиятельность, подвижность, конфликтность фигуры Сартра, эмблематичен для его облика, и петербургская конференция лишний раз показала, насколько живым был и остается этот человек в культуре, даже ныне, через четверть века после смерти. Когда-то, лет пятнадцать назад, автор этих строк рискнул выступить в печати с прогнозом, что «о Сартре еще долго будет интересно говорить по-русски». Пока как будто оправдывается.
Сергей ЗЕНКИН

