 |
 |
|
N°116, 06 июля 2004 |
 |
ИД "Время" |
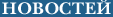 |
 |
 |
 |
Совсем не «смиренная» проза
Пушкин когда-то назвал прозу «смиренной» -- давно это было. И прошло. Что угодно можно сказать про новейшие наши повести и рассказы (весьма разные, порой совсем неплохие), но авторов их в смирении не заподозришь. Каждой фразой сегодняшний писатель настоятельно требует обратить на себя внимание: «Смотрите, дескать, кто пришел! Такого прежде не было! Внимайте и благоговейте!» И добро бы одни «модернисты» (они же «постмодернисты») спешили продемонстрировать свою неповторимую фасонистость -- так нет же. Собирается вроде бы автор поведать нам простую историю о том, как люди живут, а читаем мы, к примеру, вот что:
«Хоть угор и был как крепость, но его то подмывало в ветер весенним Енисеем, то резало въедливым снеговым ручейком, и рыхлую брешь приходилось заваливать хламом, дровяной щепой, а с одной весны пошел он (кто? ах да, угор. -- А.Н.) лопаться от неравномерного оттаивания мерзлоты, и трещина эта (какая еще трещина? ах да, та, которая брешь. -- А.Н.) ходила, гуляла и все ширилась, и Дядька думал, какие бы изобрести скобы, чтоб его (угор, угор. -- А.Н.) стянуть, как плот». Так прямо и думал этот самый малахольный, забросивший даже выпивку с куревом, диковатый Дядька? Да нет, сравнение с плотом на совести автора -- как и изысканные эпитеты (и ручеек «въедливый», и брешь «рыхлая»; ну-ка представьте себе этот феномен натуры). «Яркие» (еще говорят -- «штучные») эпитеты со смазанной семантикой, неведомо чье место занимающие местоимения, непременные инверсии и эпические (а то выше бери -- библейские) повторяющиеся «и», знаковая «народственность» рядом с канцелярским «неравномерным оттаиванием»... Прочтут повесть Михаила Тарковского «Бабушкин спирт» («Новый мир», №6) или на третьей странице бросят -- дело темное. Но что «стилистическое мастерство» возьмут на заметку -- это точно. И не в том даже беда, что никакого мастерства в этой нарочитой прозе нет, что выдуманные и тешащие душу автора «фигуры речи» прикрывают элементарное неумение вести внятный рассказ, -- это личная проблема Тарковского и падких на его выверты редакторов. (Помните, как в начале 90-х «Новый мир» с «Октябрем» состязались, печатая Ивана Оганова? Может, и самого Оганова помните?) Есть, к счастью, в июньских журналах прозаики, куда лучше обращающиеся со словом и периодом, чем охотник из Красноярского края. Беда в том, что и они прежде всего стремятся заворожить читателя своей оригинальностью, «непохожестью», если угодно -- самобытностью. Словно бы и не думая о тех героях и событиях, ради которых взялись за перо (сели к компьютеру). И к словечкам и синтаксическим конструкциям тут дело не сводится. Тот же Тарковский изо всех сил хочет нас заинтриговать психологической сложностью своих простых персонажей: и Дядька-чудак, и приторговывающая спиртом праведница-бабушка со странностями, и малец Колька почему-то не от мира сего. Благодарно принимаешь к сведению и спрашиваешь: а зачем все это нужно? Как «чудаковатость» героев сказывается на сюжете? А никак. Потому что и сюжета нет. Просто жизнь. Просто странности. Каких вы еще не видали. Ну и «живое сострадание» к «бедным людям». Которому на грош не веришь. Потому что «бедность» есть, «экзотичность» есть, «психологические загадки» тоже есть, а людей почему-то не видно.
Как не видно их и в другой «новомирской» повести -- «Снег в Гефсиманском саду» Юлии Винер. Опытный, надо думать, автор -- больше тридцати лет в Израиле живет, а до того сценарное отделение ВГИКа окончила. Ну и берет быка за рога: загадочный (и примитивный) палестинец Самех (на биографию с психологией две страницы) неудачно клеит на улице русскую еврейку Милочку -- с тем, чтобы в дальнейшем ее страстно возненавидеть. И на предпоследней странице убить Милочкиного возлюбленного -- загадочного (ну как без того) голландца с говорящим именем Ангелус. (Тот умел летать, но не уворачиваться от брошенного камня.) Толика мистики, толика израильской раскаленной актуальности (интифада, иерусалимское смешение языков), толика сентиментальности. С первых строк нам сигналят: будет странно. Благодарно принимаешь эту странность как данность. И вновь упираешься в недоуменное «зачем?» И вовсе не хочется жалеть ни белесого голландца, зачем-то осевшего на Святой земле и там убитого, ни его подружку (есть у нее и биография, и внешний облик -- только вот вспомнить их затруднительно), ни комического ученого чудака отца Джейкоба, дошедшего до истинного понимания Бога. Куклы, а не люди. И хитросплетения сюжета не работают, ибо все встречи и случаи означают нечто таинственное и о-о-о-чень важное, а расшифровывать многозначительные намеки просто лень.
Лень искать «сверхсмыслы» и в вообще-то сильном рассказе классика питерского андерграунда Бориса Иванова «Ночь длинна и тиха, пастырь режет овец» («Знамя», №6). Здесь-то человек есть -- полубезумный (и, быть может, гениальный) художник Корзухин написан с настоящей убедительностью. Достоверна и атмосфера его отшельнического бытия, и болезненно гнилой воздух города, и дух подполья. Кажется, еще полшага -- и поверишь в припахивающий мистикой сюжет, ухватишь за хвост какую-то очередную тайну. Но не получается: фактура остается фактурой, а надсадная многозначительность -- мешающим делу придатком.
И с тем же чувством закрываешь бойкую («играем в шестидесятые») повесть Елены Долгопят «Физики». Вроде бы и герои худо-бедно обрисованы, и происшествия какие-то с ними случаются, и детали забавные, но опять все расплывается в тумане многообразных странностей. И нужны незаурядные усилия, чтобы как-то для себя «замотивировать» превращение одного незаурядного физика в писателя-фантаста, а другого -- в простого шофера. И не складываются в единую картинку история брака будущего писателя с сумасшедшей профессорской дочкой, долгие поиски родителей, которыми занят его приятель-сирота, переворот в душе героини, променявшей одного физика на другого, снежная буря, предшествующая отбытию персонажей в закрытый город (поклон фильму «Девять дней одного года»). То ли просто «игрушка», то ли опять намек на нечто невообразимо сложное, но никак не «человеческая комедия».
Всего же досаднее, когда видишь, как насилует свое дарование писатель, что называется, милостью Божьей. Именно этим и занята Наталья Рубанова, сочинившая «текст, распадающийся на пазлы» (оценили как «свежесть», так и «точность» образа) и озаглавившая его «Люди сверху, люди снизу». История девочки Аннушки, дочери позднесоветских «инженегров» (опечатки нет) из уездного городка, что решила завоевать столицу и, нахлебавшись досыта всякой мерзости, почти добилась успеха, рассказана изящно и остроумно. И даже постоянные появления целой компании авторов (расщепление писательской души на несколько составляющих) стерпеть можно. И наезды на предполагаемых редакторов (ясно, что создания эти дурнее даже читателей, каковые тоже автору в подметки не годятся) тоже переносимы. Молодо-зелено, стерпится-слюбится, звенит же голосок, летит сюжет, и даже люди на людей похожи. Если бы все это было только игрой мускулов! Но боюсь, что Наталья Рубанова (еще раз повторю, что ее одаренность вне сомнений) действительно убеждена, что писать надо именно так. То есть «не так». И не видит, как стереотипны ее «находки», как на самом деле зависима она от правил хорошего литературного тона, как нужен ей -- именно потому что талантлива -- редактор. И читатель. Который может оказаться отнюдь не таким терпеливым, как ваш обозреватель.
Ну а еще чем журналы потчуют? Из поэтических подборок выделим «Погоди минутку» Михаила Поздняева в «Новом мире» и «Кустарные виды» Михаила Айзенберга в «Знамени». Из «новомирской» эссеистики -- посмертную публикацию Сергея Аверинцева («Опыт петербургской интеллигенции в советские годы -- по личным воспоминаниям»), заметки Михаила Гаспарова «Памяти Сергея Аверинцева» и фрагмент «Литературной коллекции» Александра Солженицына, посвященный «Царице смуты» Леонида Бородина. Из эссеистики «знаменской» -- конференц-зал «Либерализм: взгляд из литературы» и статью Елены и Надежды Иваницких о бульварном чтиве («Контора кривых зеркал»).
Андрей НЕМЗЕР

